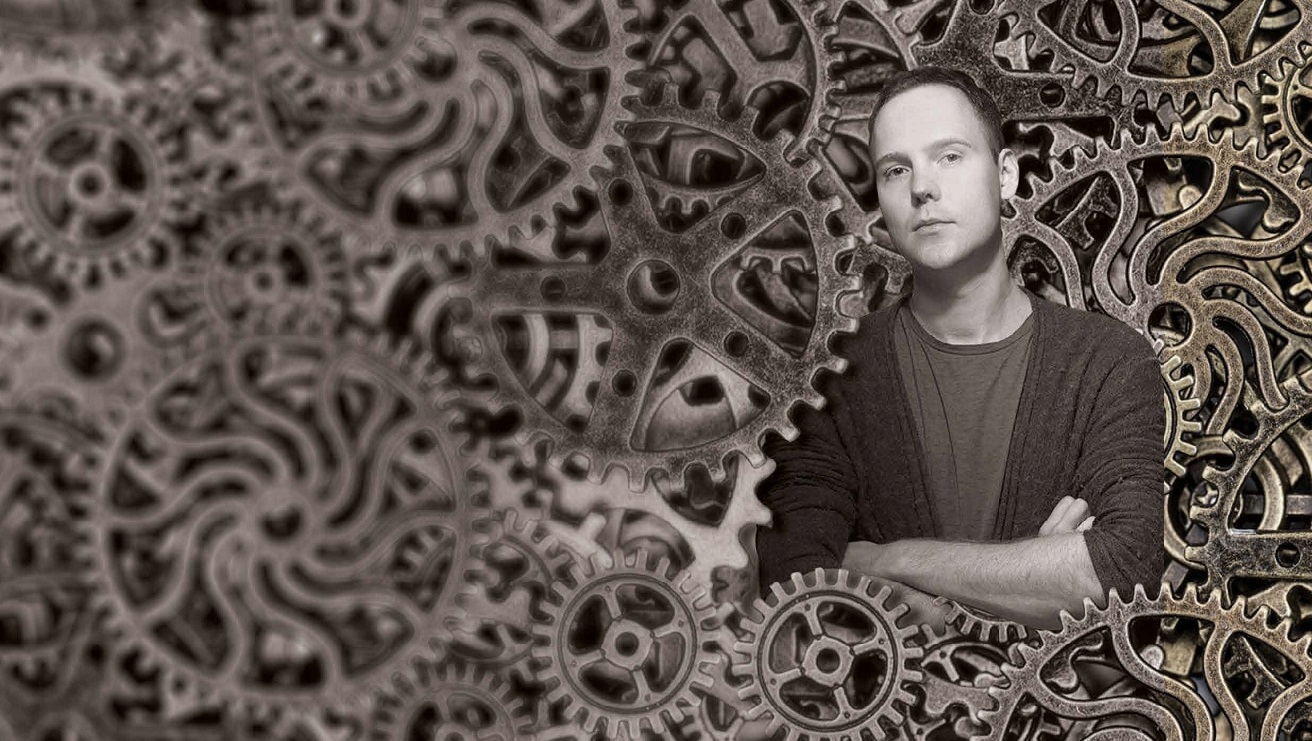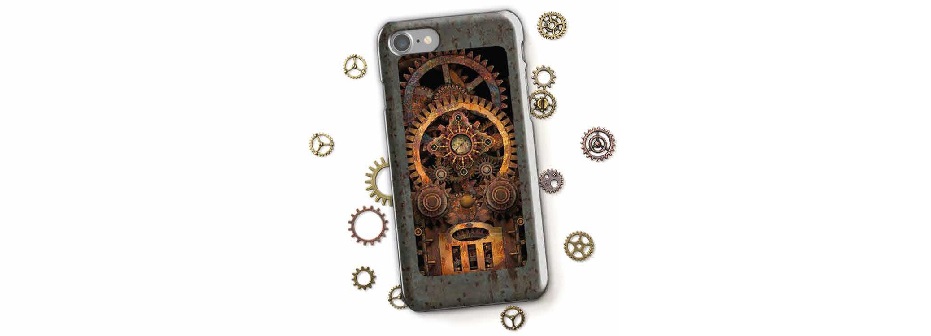Станислав Апетьян — абсолютный человек интернета. Тем интереснее было попытаться понять одного из ведущих экспертов в сфере политического интернета: что же все-таки такое политическая жизнь в механике Всемирной сети?
— Что для вас вообще интернет?
— Это, по сути, основное пространство моей работы и моего существования. Если взять структуру моего дня, то непосредственно функционирую в онлайн-среде я большую часть суток. Безусловно, для меня это основная среда обитания, жизни, заработка, основного общения. Я в этом смысле человек полностью цифровизированный. Мне даже проще общаться с людьми онлайн, нежели офлайн. У меня вся жизнь с этим связана — с политикой и с интернетом.
— Хорошо, раз так. Исходя из той истории, которая про вас существует в интернете и за которой вы сами внимательно следите, — жежешка и все остальное.
— Когда был ЖЖ «ПолиТрэш» — это был далеко не первый мой приход в интернет. Блог в «Живом журнале» я завел уже после госслужбы и работы в ЦИК «Единой России». А до этого всего я тоже был достаточно активным интернет-пользователем.
— А что было до этого?
— Еще когда учился в школе и на первых двух курсах института, я был достаточно активным политическим блогером скорее оппозиционной направленности.
— Про это тоже пишут. «Аську» помните: «О-оу..»
— Да, у меня она была шестизначная, модная. У меня появился интернет, когда я был в классе пятом—шестом школы. Это был модемный интернет, диалап (устаревшая технология с модемом — «набор номера, дозвон»), когда его почти не было в розничной продаже. То есть я сидел через каких-то там знакомых моей мамы, у которых был корпоративный доступ. В принципе, как и современные дети, я — представитель первого поколения, которое буквально росло в интернете. И формировался как личность я тоже в общем и целом онлайн.
— Интернет помогает нам ориентироваться в мире или, наоборот, дезориентирует?
— Интернет — это и есть наш мир в настоящий момент. Он настолько большая часть современной жизни и вселенной, самого бытия. В этом смысле я считаю, что современный мир в значительной мере цифровой и связан с интернетом. Есть еще офлайновый мир, но его в общей жизнедеятельности человека становится все меньше, а цифрового — все больше и больше. Понятно, что в какой-то момент «цифры» будет так много, что вопрос этот потеряет значение. Меня в этом ничего не смущает. Я не тот человек, который готов рассуждать о цифровом детоксе, потому что для меня это то же самое, что мне руки или ноги отрубить. О каком цифровом детоксе может идти речь, это же моя жизнь.
— Политическая блогосфера сегодня свободна или ангажирована?
— Времена романтические, времена «Дикого Запада» в блогосфере закончились. Современная политическая блогосфера очень сильно коммерциализирована, превращена в индустрию зарабатывания денег и пропаганды, решения определенных политических задач. Она, безусловно, уже не та, какой была 15 лет назад, когда людям просто хотелось обсуждать политику, поэтому они вели какие-то «живые журналы». На сегодняшний день это большая индустрия, где неангажированных мнений осталось очень мало.
— Получается, что это все коммерция. Тогда встает вопрос конкуренции. С кем сегодня политики конкурируют в первую очередь? С локальными, региональными оппонентами, с идеологией или вообще с галактикой?
— Политик, в зависимости от своего масштаба, целевой аудитории, ниши, конкурирует в своей среде. Региональные — в рамках региональных публичных медиа: региональных телеграм-каналов, интернет-порталов и так далее. Федеральные политики конкурируют в федеральном информационном поле. Можно сказать, что они конкурируют за внимание аудитории в принципе. Сразу встает вопрос: а какие более эффективные пути есть в данном случае у конкурентов за это общее внимание? Современные медиа устроены так, что различные одиозные политики, которые выходят с резкими, яркими высказываниями, привлекают большее внимание аудитории, возможно, в ущерб осмысленности этих высказываний. Замечу, что среди депутатов «Единой России» есть политики, которые достаточно неплохо умеют таким методом продвигаться и приобретать информационный вес. Например, известный депутат Милонов — это идеальный пример депутата, который за счет резкости своих высказываний постоянно находится на виду и поддерживает к себе медиаинтерес. По сути дела, это политик настоящего. Это один из путей. Трамп — такого же плана политик, тот же самый подход к построению политического имиджа. Другой путь — узкосредовой. Депутаты, которые работают на свою определенную тему, занимают свою нишу, им не нужно широкое внимание, но зато конкретно в своей тематической категории они постоянно поддерживают к себе интерес и внимание. Таких депутатов в «Единой России» много.
— Фабрики ботов существуют? Вершат ли боты революцию?
— Существуют, но их эффективность невысока. Они существуют, не только политические, не только в России, но и везде, это индустрия. Прежде всего, большая часть фабрик ботов существует не с целью политического влияния или пропаганды, а с целью реализации чисто коммерческих задач — маркетинговых, продвижения товаров, обмана рекламодателей. Подпольный интернет — он гигантский, это индустрия с миллиардными оборотами, причем в долларах. В ней друг друга все обманывают, а фабрики ботов — это неотъемлемая часть всей этой индустрии. Если мы говорим об их реальном политическом значении, то оно, конечно, незначительно. Когда был весь этот скандал в Штатах с обвинениями в адрес России, понятно, что это исключительно была внутриамериканская, внутриполитическая история с целью каким-то образом оправдаться за поражение Демократической партии на выборах. Реальное влияние фабрик ботов что в американском, что в российском интернете равно нулю.
— Тогда кто рулит в интернете? СМИ или агрегаторы новостей?
— Уже и не СМИ, и не агрегаторы. Если мы посмотрим на динамику трафика, который раздают агрегаторы на СМИ, то заметим, что с каждым годом она падает. Это связано отчасти с госрегулированием, которое несколько «подкрутило» агрегаторам возможности. Они раздают трафик на российские и государственные информационные источники. Значение агрегаторов и СМИ в последние годы падает. Распространение информации все больше уходит в соцмедиа. Новости все чаще люди узнают из «Ютуба», из соцсетей. Так что если мы говорим про динамику потребления информационного контента в современном российском интернете, то и СМИ, и агрегаторы падают, а соцсети и видеохостинги растут.
— Ну, тогда, получается, мы потихонечку переходим к практическим вопросам. Вот сидит молодой политик, и перед ним стоит выбор разместить информацию в профессиональном интернет-издании или у блогера. Вот что ему предпочесть в этой истории?
— Тут все зависит от целевой аудитории (ЦА) и от того, что собирается сказать политик. Всегда нужно отталкиваться от того, кто является ЦА, целевой аудиторией сообщения. Если ЦА сообщения является скорее аудитория данного блогера, то нужно идти к блогеру. Если же это узкоспециализированное интервью по вопросам какой-то отрасли промышленности, то скорее, конечно, имеет смысл дать его отраслевому, профильному изданию. Тут все зависит от содержания сообщения и от ЦА сообщения. В каждом случае нужно подходить индивидуально. Тут нельзя дать точного универсального ответа. Единственное, стоит добавить, что игнорировать блогеров или популярные региональные телеграм-каналы или ютуб-каналы точно не стоит. На сегодняшний день аудитория российского «Ютуба» сопоставима с аудиторией всего российского федерального телевидения.
— Тогда получается, что Единый день голосования (ЕДГ) — 2020/2021 — это была какая-то целевая аудитория, исходя из предыдущего вопроса. Нужно было ли проводить ЕДГ-2020/2021 в половине регионов в режиме онлайн и что это дает?
— Возможность проголосовать электронным способом в рамках ЕДГ?
— Да-да.
— Я считаю, что это правильная история. Вообще, любопытная и интересная дискуссия вокруг электронного голосования. Хорошо ли это? Я, скорее, на стороне тех, кто считает, что это хорошо и правильно. Но есть и другие мнение, такая политическая философия. То есть, на мой взгляд, возможность электронного голосования приводит к увеличению общей явки и участия населения в выборах. Ничего плохого я в этом не вижу.
— Даже демократизация процесса какая-то.
— Да. Я понимаю еще оборотную сторону этого момента: есть предположение, что за счет ЭГ повышается возможность и манипулировать результатами выборов, а именно — происходит расширение возможностей административного ресурса и так далее. И такие нюансы существуют, другое дело, что это все равно прогресс, он положительный.
— Тут очень интересно. У нас уже было интервью с Ашмановым, ответы Игоря Станиславовича можно прочитать в предыдущем номере. Вы не исключаете, что возможность «подкрутить» существует?
— Я здесь не говорю про подкручивание именно самой системы. Я говорю про облегчение административного контроля за голосованием. Будет ли в реальности такое — не факт. В общем и целом я сторонник ЭГ. Оно себя проявило достаточно неплохо в Москве, на голосовании по Конституции.
— А действительно, как оно себя проявило?
— Да хорошо оно себя проявило. В части голосования по Конституции вообще никаких нареканий не было. До этого оно тестировалось в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Там были какие-то сообщения: «Админресурс пытался частично контролировать, как голосуют зависимые категории избирателей». Вопросов, как эта система сама работает и как она считает, — не было никогда. Не было примеров того, как при помощи ЭГ подкручивали какие-либо результаты. Я думаю, что технически это невозможно.
— А вот эти системы, УГи, как я их называю, — «Умное голосование», «Активный гражданин» — эта история вообще оказывает влияние на поведение граждан? Мы же понимаем, что они формируют повестку таким образом или даже умозаключение какое-нибудь.
— Если мы говорим про «Активный гражданин», то она, безусловно, влияет на общее представление жителей Москвы о том, что происходит в городе и как он развивается, какие вопросы актуальны. Фактически это элемент цифровизации муниципального активизма. Вещь хорошая, и это позволяет жителей Москвы, которые достаточно пассивны, втянуть в совместное принятие решений для дальнейшего развития города. Понятно, что в том числе она решает и пропагандистскую задачу, а именно — показывает, что власти города активно работают. Это позволяет власти показать собственную активность, собственную деятельность.
— Пропагандистскую, получается, или просветительскую задачу?
— А я, честно говоря, в слово «пропаганда» не вкладываю ничего негативного. Это абсолютно нормальный термин, любая власть, любой политический субъект должен заниматься пропагандой — это одна из его неотъемлемых задач. Безусловно, власть города является политическим субъектом, она должна этим заниматься. Здесь «Активный гражданин» — это инструмент данной пропаганды, и ничего плохого в этом нет.
— Хорошо. Тогда вернемся к самим УГам. Эффективный вообще инструмент?
— Это политтехнологический инструмент. Концептуально УГ сильно оторвано от реальности. Сейчас мы перейдем совсем в политтехнологии.
— Ну и хорошо. Нам же важно понимать, как к нему относится наш читатель.
— УГ направлено конкретно на кандидатов против «Единой России». Смысл УГ в том, чтобы минимизировать прохождение кандидатов-одномандатников от ЕР. Оно направлено именно на выборы по мажоритарной системе. В рамках пропорциональной системы в УГ нет никакого смысла. Его смысл в том, чтобы консолидировать общественные голоса в пользу одного кандидата. Если мы берем пропорциональную систему — это не влияет ни на что. Только в рамках «мажоритарки». Дальше мы переходим к следующему вопросу: учитывая специфику российской политической системы, к чему это приводит? Ну, во-первых, мы понимаем, что в основном партия № 2 — это КПРФ. То есть УГ — это инструмент поддержки кандидатов-коммунистов. При том, что это придумано не кандидатами-коммунистами, а либерально настроенными политиками, это вызывает определенного рода вопросы. Почему они считают, что, скажем так, победа на тех или иных округах кандидатов-коммунистов для них выгоднее, нежели победа единороссов, — уже большой вопрос. Во-вторых, основная концептуальная проблема УГ — что оно никаким образом не поможет тем людям, которые пытаются его продвигать. Вот эта группа Навального, которая его придумала и пытается его везде раскручивать, им-то оно не приносит никакой пользы, ничем не поможет, а если кому и поможет, то небольшому числу кандидатов-коммунистов.
— Задача нагадить?
— Абсолютно.
— То есть дело не в помощи, а просто нагадить — это уже для них помощь.
— Вот абсолютно. Плюс это ставит в неловкое положение либерально настроенных избирателей. Потому что они превращаются в стадо, которому указывают, лишают собственной политической субъектности и говорят, за кого голосовать. То есть, по сути, они превращаются, вот эти либерально-критически настроенные избиратели, в настоящий административно манипулируемый электорат.
— Вновь к вопросу самопрезентации в сети. Почему для себя выбрал «Телеграм»?
— В ТГ я перешел из «Твиттера», когда тот начал загибаться. Я воспринимал «Телеграм» как перспективную платформу, какой она, собственно, и оказалась. Понятно, что это не универсальный инструмент. И не каждому кандидату нужен телеграм-канал — все зависит от того, какая у кандидата повестка, кто его ЦА. Для очень многих гораздо интереснее и перспективнее «Инстаграм», так как он более массовый, там широкая аудитория. Но если кандидат связан с федеральной информационной повесткой, то «Телеграм» в приоритете. ТГ сейчас в основном медиа для журналистов, для людей, связанных с политической деятельностью. Источник инсайдов, источник политинформации.
— Получается, только «тележка», а еще «Фейсбук», что называется, империя Цукерберга, не гнушаются работой с политическим контентом.
— «Инстаграм» тоже абсолютно открытый для политического контента. «Инстаграм» и «Фейсбук» — это все одна корпорация.
— Я понимаю — это все одна экосистема.
— И на самом деле — да, там нет никаких ограничений для политического контента. Ну, может, как бы есть — с точки зрения оскорблений. Но это немного другая история. Но с точки зрения продвижения политики там нет никаких ограничений. В отличие от российских социальных сетей, где ситуация совершенно противоположная.
— Да, но, с другой стороны, российские соцсети изначально говорили, что здесь политический контент «не ау».
— Нет. Это не так.
— А как было раньше?
— Раньше там тоже было абсолютно все доступно. То есть во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» не было никаких ограничений. Они не были крайне политизированы никогда. Там просто не было ограничений, то есть политику можно было продвигать спокойно через таргетированные механизмы.
— Это хорошо или плохо?
— Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что политическая коммуникация не должна ограничиваться.
— То есть, по-хорошему, надо вернуть это назад?
— Да. Можно предположить, почему запретили. Опасались, что эти платформы будут использоваться для распространения пропаганды во время протестов. Ведь запрет на продвижение политики ввели как раз в период «болотных протестов». Конец 2011 — начало 2012 года. Но тот момент прошел, он уже в прошлом, 10 лет прошло, а запрет все еще действует, хотя сейчас ситуация уже другая. Мне кажется, что сейчас разрешение сыграло бы на руку тем же самым кандидатам от «Единой России», а не несистемным оппозиционерам. Поэтому — да, в российских запрещено, а в зарубежных почти все разрешено.
— Но и тем не менее — «кнопочка от Трампа», когда он офигел.
— Это да, это забавный момент. Вопрос о наличии рубильника был снят. Мы все понимаем, что рубильник есть. Если сильно прижмет, его могут использовать. Против Трампа его использовали. Против тех, кто запускает политическую рекламу любого содержания из России на российских пользователей, его еще не используют. Пока не используют. Но если вы начнете запускать политическую рекламу из России на США, то вам сразу запретят. То есть существует жесткий запрет на любую рекламу из России на американских граждан. Кстати, из США на российских можно что угодно.